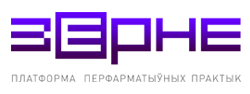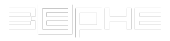Таня Артимович
Текст лекции, проведенной в рамках школы “ТЕАРТ” в октябре 2016 года.
Начну с названия этого выступления, вторая часть которого звучит как “Аристотеля никто не отменял?”. Это высказывание принадлежит не мне. История эта произошла в Москве какое-то время назад на одном из фестивалей новой драмы, которая на тот момент еще не стала мейнстримом, разделяя публику и критиков на своих апологетов и на тех, кто агрессивно отрицал новую драму как искусство. Была читка одного “новодрамовского” текста, после чего присутствующий в зале критик начал активно ругать то, что увидел. “И в конце концов — Аристотеля никто не отменял!” — воскликнул он. Вдруг послышалось: “Я отменил”. — “Кто я?” — “Павел Пряжко”.
Я очень люблю эту историю не только за ту дерзость и энергию, которая присуща в принципе новому искусству. В этом диалоге, на мой взгляд, точно сформулирована борьба за теорию и полная утрата монополии какой-либо одной из них, чем и стал знаменателен 20 век, и не только для поля искусства.
Здесь стоит сделать поправку, так как апелляция критика к авторитету Аристотеля была, скорее, условной, так как театр во времена древнегреческого философа, как и позже Шекспира, был намного менее регламентирован, чем та модель театра, в которой критик, скорее всего, видел некий образец. Имею в виду, в первую очередь, роль зрителя, который в древнегреческом театре и театре эпохи Возрождения был активным участником, реже участницей, происходящего на сцене. Основные каноны — театральная архитектура, регламентация и иерархия ролей, а также структура театрального спектакля — были сформированы и закреплены поздней, уже в эпоху Классицизма, и что касается постсоветского пространства, с небольшими изменениями, но именно эта модель остается доминирующей и в наши дни.
Конечно, все это критик знал, и предположу, что взывая к авторитету Аристотеля, в первую очередь, имел в виду а) каноны драматургии, сформулированные Аристотелем в “Поэтике”: мимесис (подражание), законченность и цельность действия, его линейность, а также катарсис (эмоциональное преображение) как сверхзадача; б) основополагающее для эстетики разделение жизни и искусства, которое являлось фундаментальным элементом классической теории искусства до 20 века.
Эта теория и до сих пор остается актуальной, но на рубеже 19-20 веков стали происходить процессы, которые положили начало теориям нового искусства, то есть появились авторы и произведения, в театральном контексте — драматурги и пьесы/тексты, режиссеры и спектакли, — для описания и интерпретации которых необходимы были новые подходы. Перед тем, как рассказать о некоторых из них, отмечу, что все эти процессы напрямую были и есть связанными с геополитическими, экономическими, социальными изменениями, происходящими в мире. Такими как индустриализация, урбанизация, технический прогресс, эмансипация, Первая мировая война, революции, гражданские войны, конечно, Вторая мировая война. Все это непосредственным образом повлияло на поле искусства и его теории. Но о радикальном “повороте” заговорили только в 1960-х.
Прежде чем я поясню, в чем заключался смысл этого “поворота”, мне бы хотелось привести цитаты некоторых авторов, в которых лаконично, на мой взгляд, обозначен исторический бекграунд этих изменений.
“Становление искусств и практическая фиксация их видов происходили в эпоху, существенно отличавшуюся от нашей, и осуществлялись людьми, чья власть над вещами была незначительна в сравнении с той, которой обладаем мы. Однако удивительный рост наших технических возможностей, приобретенные ими гибкость и точность позволяют утверждать, что в скором будущем в древней индустрии прекрасного произойдут глубочайшие изменения. Во всех искусствах есть физическая часть, которую уже нельзя больше рассматривать и которой нельзя больше пользоваться так, как раньше; она больше не может находиться вне влияния современной теоретической и практической деятельности. Ни вещество, ни пространство, ни время в последние двадцать лет не остались тем, чем они были всегда. Нужно быть готовым к тому, что столь значительные новшества преобразят всю технику искусств, оказывая тем самым влияние на сам процесс творчества и, возможно, даже изменят чудесным образом само понятие искусства”. Поль Валери 1934.
Это эпиграф к знаковому для теории современного искусства эссе Вальтера Беньямина “Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости”. В своей работе Беньямин анализирует трансформацию произведений искусства в контексте развития технологий — фотографии и кинематографа, которые позволили создавать копии и тиражи. Таким образом, по мнению Беньямина, утрачивается “аура” произведения искусства, а фильм в скором времени сможет вытеснить театр. Как видим, этого не произошло, так же как и “копия” и “тираж” не уничтожили “ауру”, но трансформировали ее понимание.
Следующее высказывание принадлежит Маршаллу Маклюэну, канадскому философу, филологу, литературному критику, известному такими работами как “Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего” (1962), “Понимание медиа: Внешние расширения человека” (1964), “Война и мир в глобальной деревне” (1967, в соавторстве с Квентином Фиоре) и др.

Маршалл Маклюэн, фотография из открытого источника
“В настоящее время человек создал технические расширения для всего, что раньше он делал своим телом. Эволюция оружия начинается с зубов и кулаков и заканчивается атомной бомбой. Одежда и здания суть расширения биологических механизмов температурного контроля. Для того чтобы не сидеть на корточках или на земле, появляется мебель. Электрические приборы, телевизоры, телефоны и книги, с помощью которых человеческий голос преодолевает пространство и время, — все это примеры материальных расширений. Деньги — не что иное, как способ расширения и сохранения труда. А современные транспортные средства работают там, где когда-то трудились ноги и спины. В самом деле, все произведенные человеком материальные вещи могут быть рассмотрены как расширения того, что человек некогда делал с помощью своего тела или какой-либо его части”. Маршалл Маклюэн. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего.
Интересный факт, Маршалл Маклюэн начинал как “традиционный” литературовед и активно критиковал современное искусство и массовую культуру. Но затем его взгляды изменились: он “предложил изучать массовую культуру в её собственных терминах, а не с точки зрения классической традиционной культуры”. То есть предположил, что для понимания современной культуры традиционная, классическая оптика не подходит и необходима новая. И связано это, в первую очередь, с воздействием электронных средств массовой коммуникации на человека, которые не только физически “расширили” его, но трансформировали сознание.
И еще две цитаты:
Писать стихи после Освенцима — это варварство. (После Освенцима поэзия невозможна). Теодор Адорно
Практически ни один принцип, которая наша современность , как ей казалось, могла признать действующим, не выдержал главного испытания — Ethica more Auschwitz demonstrata (Этика, доказанная Освенцимом). Джорджо Агамбен
Надо отметить, что Освенцим станет ключевым для современного искусства и театра — не только как тема, как травма, но именно как образ — “после Освенцима”. Потому что, действительно, если не был выдержан ни один этический принцип, значит, необходимо думать о новых принципах — этических и эстетических. Художникам также необходимо пересматривать то, что они делают. И кто-то смог продолжить писать стихи, а кто-то продолжил их писать, но кардинально по-новому.
Теоретик перформативности Эрика Фишер-Лихте свою книгу “Эстетика перформативности” начинает с описания перформанса Марины Абрамович “Уста Святого Фомы” 1975 года. Это не значит, что “перформативный поворот”, о котором говорит немецкая исследовательница, начался именно с этой работы, но перформанс Абрамович хорошо демонстрирует те ключевые трансформации, интересующие Эрику Фишер-Лихте и нас.

перформанс Марины Абрамович “Уста Святого Фомы”, фотография из открытого источника
Перформанс происходил в стенах галерее. Художница разделась, подошла к стене и нарисовала там звезду. Затем она села за стол, где стояла банка меда и бутылка вина. Сначала она съела весь мед, затем выпила все вино. После этого она взяла плеть и стала хлестать себя по спину. Повернулась к зрителям лицом и ножом вырезала у себя на животе звезду. После чего легла на крест на полу, выложенный из кубов льда, над которым были размещены тепловые пушки. От высокой температуры ее живот стал кровоточить. И наверное, она продолжала бы лежать, пока лед не растает, но кто-то из зрителей не выдержал, подошел и “снял” ее с креста, положив конец перформансу. Таким образом, граница между этикой и эстетикой была уничтожена. Публика в галерее пришла смотреть на “произведение искусства”, то есть наблюдать, не вмешиваться в него. Но в данном случае “произведение искусства” и его автор абсолютно совпали, что уже противоречит классической традиции. Далее: на протяжение двух часов публика наблюдала за тем, как художница наносит себе реальный вред, несмотря на то, что она не показывала это, было очевидно, она испытывает боль. И вот тут перед зрителем возникла дилемма: с одной стороны, он или она как бы не может вмешиваться в замысел автора, но с другой стороны, наблюдает реальные страдания другого человека. Как поступить — продолжить наблюдать или вмешаться? То есть очевидное столкновение эстетического и этического, в котором этика одержала верх.
Кроме того, действие зрителя напрямую повлияло на само “произведение искусства”, в данном случае оно завершило его. Таким образом, для нового искусства стал характерным “обмен ролями”: когда произведение рождается из сотворчества автора и зрителя, реакция и действия которого могут влиять и трансформировать первоначальный замысел. Перформанс Марины Абрамович также демонстрирует материальность “произведения искусства” (совпадение субъекта и объекта): даже не столько важно, что имела в виду художница набором знаков и действий, но ее реальное тело и взаимодействие его со зрителем создавала новый уровень восприятия и смыслов. И еще один важный момент. Наблюдая за перформансом Абрамович, зритель оказался фрустрирован той неопределенностью своей роли, которую провоцировали действия художницы — наблюдать или участвовать? Эрика Фишер-Лихте называет это состояние лиминальным, то есть переходным, состоянием кризиса, когда в человеке возможны реальные трансформации. Именно это часто и становится целью для современных художников: не вызвать катарсис — эмоциональное потрясение, которое сильное, но быстро проходящее, а создать лиминальное пространство, бросить человеку реальный вызов, когда он или она вынуждены принимать решения и брать на себя ответственность.
Я перечислила далеко не все, лишь некоторые моменты, но уже понятно, что эти новые теории — перформативная одна из них — перечеркнули базовые для классической теории искусств элементы. Граница между искусством и жизнью стала “подвижной”, речь больше не идет о “художественном произведении”, “шедевре”, “гении”. Художники стали создавать “события”, “социальные ситуации”, активно вовлекая зрителя в происходящее, часто помимо его или ее воли.
Сейчас я хотела бы на примере некоторых спектаклей показать как те или иные элементы работают и используются. Я не буду давать интерпретации этим спектаклям или делать их подробный анализ, но сфокусирую ваше внимание на каких-то отдельных аспектах.

Это сцена из спектакля “(А)Поллония” Кшиштофа Варликовского (2009, Новы театр в Варшаве), который был показан в рамках “ТЕАРТ” в 2013 году. Спектакль является примером отказа режиссера от драматургического материала как основы. До 20 века театр в принципе мыслился исключительно как литературный, спектакль в основном иллюстрировал пьесу, главенствующую роль занимал драматург. В начале века ситуация начала меняться, что во многом связано с перформативными опытами дадаистов, сюрреалистов, футуристов. Стали говорить о появлении режиссерского театра, когда на первый план вышла авторская интерпретация пьесы. Но окончательный разрыв произошел уже во второй половине века. Именно этот период анализирует Ханс Тис-Леман в своей книге “Постдраматический театр”, описывая особенности театра без драмы как основы. В польском театре развитие этой тенденции связывают как раз с поколением “более молодыми и более талантливыми”, по словам Петра Грушиньского, к которому принадлежит Кшиштоф Варликовский. Это режиссеры, пришедшие в польский театр в 1990-е, в период зрелости Кристина Люпы, у которого многие из них учились.
Уже Кристиан Люпа в своих театральных опытах отказывался от современной драматургии и обращался к прозе, которая, по его мнению, давала больше материала для творчества. “Более молодые и более талантливые” в принципе вступили в конфронтацию с литературой. Как отмечает Наталья Якубова, они стали спорить с ней, пытаясь справиться с “ползучим реализмом” этих пьес. Чтобы в какой-то момент начать создавать абсолютно автономные сценические произведения. Каким и является “(А)Поллония” Варликовского, которую Якубова называет наиболее многоплановым и многосложным размышлением на тему истории и памяти. Здесь и развенчание романтического мифа о Польше (Поллонии), и жертвенность, и мифология. Но, в первую очередь, спектакль обращается к теме Холокоста, вокруг которого, а именно о роли поляков, начиная с 1990-х, в Польше развернулись широкие дебаты. Начало им положил историк литературы Ян Блонский, который в 1987 году написал эссе про стихотворение Чеслава Милоша “Бедные поляки смотрят на гетто”, где прозвучал вопрос о том, что делали поляки, когда убивали евреев. Еще одна книга, вызвавшая большой резонанс, — “Соседи” Яна Томаша Гросса. Она также касается польского участия в убийствах евреев. Кшиштоф Варликовский берется за эту тему, не щадя поляков, но стараясь пойти дальше и обращается к феномену вины и жертвы. Он создает свое персональное высказывание, отказывается от единственного литературного источника и обращается к нескольким, что позволяет ему избежать однобокой интерпретации темы. Использует тексты Еврипида, Эсхила, Ф. Кафки, Дж. Литтела, Дж. М. Кутзее, Х.К. Андерсона и других, а также документальную историю Ханны Кралль, ставшей основой для спектакля. Таким образом повествование перестает быть линарным, законченным, распадается на фрагменты, создавая ощущение — памяти, которая распадается на отдельные, иногда противоречивые перспективы. Важным становится не текст, произнесенный героями, но комбинации изображения, действия, звука, особым образом влияющих на зрителя.
Получаете ли вы однозначный ответ о том, кто виноват и почему? Режиссер, скорее, обращается к неудобной истории, сокрытой, неоднозначной, таким образом провоцируя каждого из нас поставить под сомнения свою (пост)память. Роль зрителя в этой конструкции пассивна, мы наблюдаем, испытывая агрессивное эмоциональное воздействие. Этому способствует и быстроменяющаяся мультимедийная картинка, и агрессивный звук, жестокость, убийство, крик — но между этой волной и нами нет спасительной четвертой стены, поэтому нас тем не менее вовлекают в это пространство, делая такими же участниками или наблюдателями. Помимо того, что определенного рода событие создается во время спектакля, Варликовскому удалось создать “социальную ситуацию”, спектакль вышел за пределы театра, включившись в публичные дискуссии об исторической памяти.
Важно ли знать все первоисточники, для того чтобы суметь “прочитать” спектакль? Эти знания добавят смысловых измерений, но они необязательны. Одна из важнейших задач, на мой взгляд, современного театра — не рассказать вам историю, но спровоцировать обращение к своей собственной биографии, к персональной истории, к воображаемому выбору (а что бы я делал_а в такой ситуации? в какой роли бы оказался_ась — палача, жертвы или свидетеля?). Все это, по моему ощущение, Варликовскому удается сполна.
Совершенно иначе звучит и воздействует спектакль Дмитрия Волкострелова “Танец дели” по тексту Ивана Вырыпаева. Внешняя безэмоциональность, холодность, остраненность в принципе характерны спектаклям Волкострелова, для которого приставка post отсылает к “исчезновению драматического, трагического начала. Что все это мы уже прожили и живем в мире после оргии, что ничего больше не может произойти” (Д. Волкострелов). Поэтому и зритель в его театре не страдает, не радуется, в принципе не чувствует в традиционном понимании театрального переживания. Это эмоция, как и бездействие, другого рода, проживание жизни где-то глубоко внутри. Поэтому для работы Волкострелов и выбирает таких авторов — разных, но похожих в этой своей остраненности — Павла Пряжко и Ивана Вырыпаева. Сама их драматургия диктует определенные правила игры. Что касается Вырыпаева, его тексты настолько полноценны сами по себе, что иногда просто необходимо их вынести на второй план, поставив акцент на форме, что, на мой взгляд, делает Дмитрий Волкострелов.
Сценическая конструкция спектакля представляет собой две коробки — с двумя площадками и двумя зрительными залами. Я буду говорить о том, что видела я, потому что в зависимости от того, в каком зале вы оказались, история видится чуть иначе. Итак, сначала перед зрителями — белый бокс с белым занавесом, как будто экраном, на первом плане. Спектакль начинается с видеоизображения, то есть первая сцена, первый диалог текста Вырыпаева представляется в виде фильма. Диалог заканчивался, занавес-экран раздвигался, и вы видите комнату, в которой установлены камеры. Начинается вторая сцена уже с реальными актерами, и вы начинается догадываться, что камеры, фиксирующие различные планы и ракурсы, дают мгновенное видеоизображение, которое видят зрители другого зала. То есть то изображение, которые видели вы в начале, было не снято заранее, но этот диалог реально происходил по ту сторону сцены, донося до вас только изображение. Таким образом, понятие реального ставиться под сомнение, граница между реальностью и ее изображением становится зыбкой, фактически неуловимой. Является ли объективным то, что мы определяем как “реальность”, или все зависит от места в “зрительном зале”? Обращаясь к приему живой видеосъемки, Волкострелов также оппонирует идее Беньямина об опасности утраты театром своей “ауры”. Как мы видим, кинематограф не только не убил театр, но расширил его возможности — стал инструментом делать видимым невидимое. Кроме того использование киноприемов в спектакле подчеркивает важный аспект того, что и делает театр театром. В тот момент, когда мы понимаем, что это не фильм, что там за стенкой или у нас на глазах все происходит в реальном времени, и возникает театр: актер присутствует, на первый план выходит тут и теперь.
Прием проговаривания диалогов на камеру создает еще одно смысловое измерение. С одной стороны, сам текст Вырыпаева предлагает конструировать модели поведения: некоторые сцены построены на одном событии, восприятие, оценка и действие на которое меняется в зависимости от появления/исчезновения персонажа и его или ее реакции. Таким образом, герои как бы разыгрывают различные варианты одного жизненного события, а вслед за ними такую возможность получает и зритель. Кроме того возникает взгляд Другого, в данном случае видеокамеры, через которую и появляется возможность утвердить, обнаружить, зафиксировать себя.
Возвращаясь к драматургии. Как я уже говорила, сам текст законченный и однозначность, Вырыпаев в принципе пишет самодостаточные произведения, в которых слова значат то, что они значат. Благодаря такой прямолинейности и возникает сильное эмоциональное переживание уже при прочтении текстов. Но вводя прием повтора, уже сам автор закладывает дистанцию между событием и его эмоциональной оценкой, она же сохраняется и у Волкострелова. Нам рассказывают, повествуют, но не переживают. Искусственность повторов как бы нивелирует гиперреальность этих диалогов, их пафос, что, возможно, и подтолкнуло Волкострелова к вынесению на первый план приема, но не текста. Здесь важный становится персональное переживание времени (зрителя не увлекают, эмоционально не манипулируют), провоцируется состояние скуки, которое и создает то самое лиминальное пространство — обращение к себе, к своей личной биографии.
Совершенно другую модель включения зрителя в спектакль демонстрирует немецкая группа “Rimini Protokoll” в спектакле “Remote X”. Этот спектакль играется во многих городах мира, существуют версии Берлин, Нью-Йорк, Москва, Лондон и многие другие. Когда я говорю “версии”, имею в виду, что в основе этих перформативных прогулок, назовем это так, лежит некий общий прием, структура, но непосредственно сам сценарий создается под каждый конкретный город, с учетом особенностей места и его жителей. У меня была возможность посетить версии Берлин и Санкт-Петербург. Внешне это выглядит следующим образом. Группе зрителей, опять же условно назовем это так, в определенной точке города (место сбора) выдается пара наушников. В какой-то момент начинает звучать голос, который разговаривает с вами, рассказывает о себе, о городе, задает вам маршрут движения. Так, на протяжении около полутора часов вы совершаете прогулку по городу. Так выглядит внешняя схема.
Внутреннее переживание и ощущения очень персональные, поэтому я не буду говорить о содержании, но отмечу лишь некоторые внешние моменты. Что очевидно, в этом перформансе субъектом и объектом — исполнителем и зрителем — является город, городская среда становится перформативным пространством — местом действия, историей, наблюдателем и действующим лицом. Все это происходит в восприятии тех, кто выступает в роли публики. Голос в наушниках становится импульсом или обрамлением, которое реальное превращает в произведение искусства. Прохожие, которых мы встречаем на своем пути, не переживают одинаково с нами, ибо находятся по ту сторону обрамления — у них нет голоса как главного фактора. Смысловое поле образуется не только благодаря городу, но созданное пространство — одновременно публичное и приватное — провоцирует нас обращаться к своему опыту, биографии, интерпретации. Уникальный момент в данном перформансе — это переживание сообщества. С одной стороны, каждый получает как будто уникальный голос, звук в наушниках автономизирует нас от внешнего пространства и Других. Но с другой стороны, мы ощущаем этого Другого именно как такое же автономное существо как и мы, и это объединяет нас. Позиция зрителя в этой конструкции уже очевидно не пассивна, он или она — активные игроки, действующие лица, способные в том числе менять заданную конструкцию спектакля.
И снова реальность здесь ставиться под вопрос. Сомнения в действительном в принципе свойственны современному искусству и театру, возможно потому что как никогда близко художники подошли к жизни как таковой.
Пример такого тотального приближения — перформанс немецкого художника, режиссера, акциониста Кристофа Шлингензифа “Please Love Austria. Ausländer raus!” (“Пожалуйста, либите Австрию. Мигранты прочь”) 2000 года. Перформанс состоялся в рамках Венского международного фестиваля, а импульсом для него послужил тот факт, что впервые после войны у парламент с большим числом голосом прошла ультра правая партия “FPÖ”, одним из лозунгов которой было “Ausländer raus”. По словам директора фестиваля, они не могли остаться в стороне, и поддержали, казалось бы, безумную идею Кристофа. Специально для перформанса было отобрано 12 мигрантов из разных стран, которых поместили в специальные контейнеры, оборудованные всем необходимым для жизни и огороженные проволокой. Внутри контейнеров были установлены камеры, которые нонстоп транслировали жизнь участников онлайн и по телевидению, по примеру реалити шоу “Большой брат”. Каждый день (перформанс длился 7 дней) в 20-00 зрители могли голосовать, тот из участников, кто набирал меньше всего голосов, покидал контейнер и депортировался из страны. Победителю обещалось австрийское гражданство через заключение брака с гражданином_кой Австрии. Сам же Кристоф Шлингензиф каждый день присутствовал на месте событий, выкрикивая фашистские лозунги или произнося другие провокативные тексты, например, “Это правда, это искусство”. Я не буду сейчас пересказывать полностью, как разворачивались события, об этом можно почитать и даже посмотреть в интернете. Только подчеркну, что те, кто набирали меньше всего голосов, а люди голосовали, действительно выводились из контейнера и вывозились на границу с Австрией, где находился специальный лагерь для мигрантов.
Таким образом, о чем нам говорит этот перформанс. Во-первых, он демонстрирует уже не просто отсутствие границы между этическим и эстетическим, но между политическим и эстетическим, так же как между политическим и этическим. Перед человеком возник сложный этический вызов: например, вы действительно считаете, что мигранты — это проблема, и вот вам дают реальную возможность ее решать. Готовы ли вы брать ответственность за свое решение? Во-вторых, происходит радикальный “обмен ролями”. Публика напрямую решает судьбу перформанса, художник не может его контролировать. Что и произошло, когда на четвертый день группа левых анархистов штурмом брала контейнеры, освобождая мигрантов от “заключения”. В-третьих, лиминальное пространство также радикализировалось. Перед контейнерами на протяжения дня не просто разворачивались горячие споры о политике и искусстве, но с людьми случались истерики, художнику угрожали. То есть Кристоф Шлингензиф, которого обвиняли в цинизме и фашизме, полностью уничтожил обывательскую систему координат публики. “Вы хотите, чтобы весь мир увидел, что в центре Австрии возник концентрационный лагерь?” — кричали ему. Кристоф молчал. Произошла полная фрустрация зрителя, удерживать фокус искусства, которое вышло за какие-либо рамки, стало невозможно.
Понятно, что утверждая фашизм, Кристоф тотально опровергал его, и некоторые критики говорили, что не хватало его комментария, что нельзя было делать все так прямолинейно. Но тут художник выбрал стратегию, о которой говорит Беньямин: “Ты не должен комментировать критику, ты должен только предоставить критику. То есть создать цитату — в нужное время и в нужном месте. Ситуация сама создаст комментарий”. Именно это и произошло. Конечно, перформанс не решил проблему ксенофобии и популистов, но он вызвал такие жаркие дебаты — на улице, на телевидение, в политических кругах — какие не удавалось ни одному реальному протесту. И в этом была его сила, хотя, сейчас становиться еще очевидным и пророчество, которое прозвучало в перформансе. Кристоф предсказал то, что перестанет быть случаем Австрии и накроет всю Западную Европу уже через 10 лет, а именно, рост популярности правых партий и приход их к власти в отдельных странах.
Итак, возвращаясь к началу моей лекции: отменили ли новые художники Аристотеля? Нет. Он по-прежнему актуален, в первую очередь, для классического искусства, для массовой культуры, именно такой продукт легче всего продать. Но что произошло —Аристотель или единственная модель искусства утратили свою монополию. Вертикаль трансформировалась в горизонталь. Что полностью совпало с процессами демократизации, произошедшими и происходящими в 20 веке и сейчас. И по моему ощущению, те, кто требуют, условно, возврата Аристотеля в театр, кто нетерпим к новому искусству, апеллирует к художественности и академичности, вешает ярлыки о том, что такое искусство, а что нет, а для постсоветского пространства, увы, это до сих пор реально, часто оказываются в принципе носителями нетерпимости. Современное искусство помимо всех других своих задач бросило человеку еще один вызов — вызов реальной толерантности. Конечно, горизонталь в искусстве, отсутствие авторитета — это не просто, как и сама демократия. Она требует от художников и зрителей ответственности и самостоятельности. Тем не менее именно это позволяет двигаться дальше и говорить об эволюции.
Таня Артимович
На обложке: спектакль Дмитрия Волкострелова “Танец дели”.
Мнения авторов не всегда совпадают с позицией редакции. Если вы заметили ошибки, пожалуйста, пишите нам.