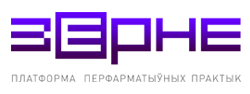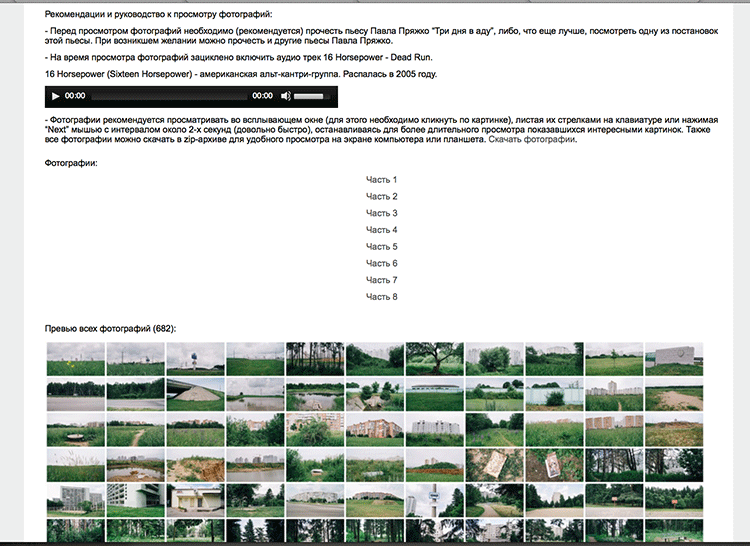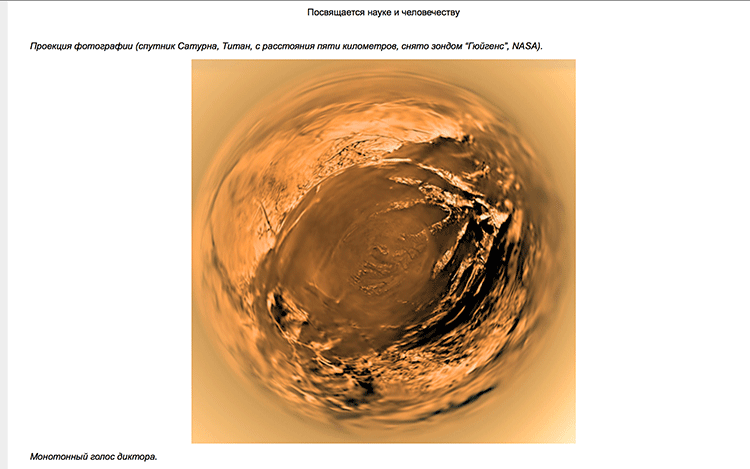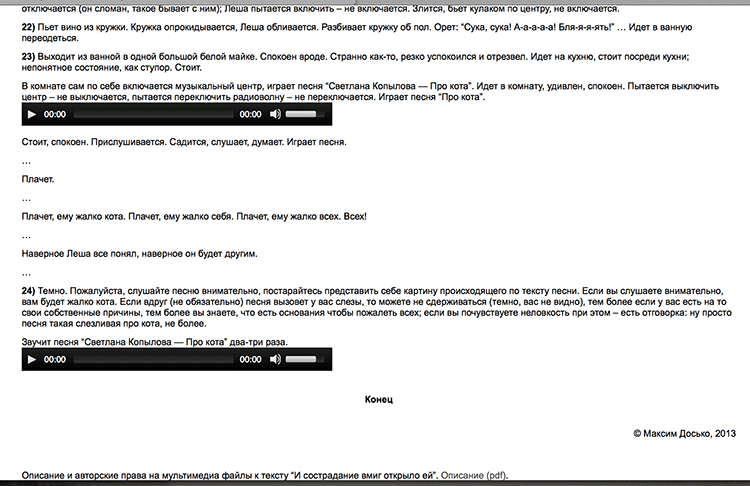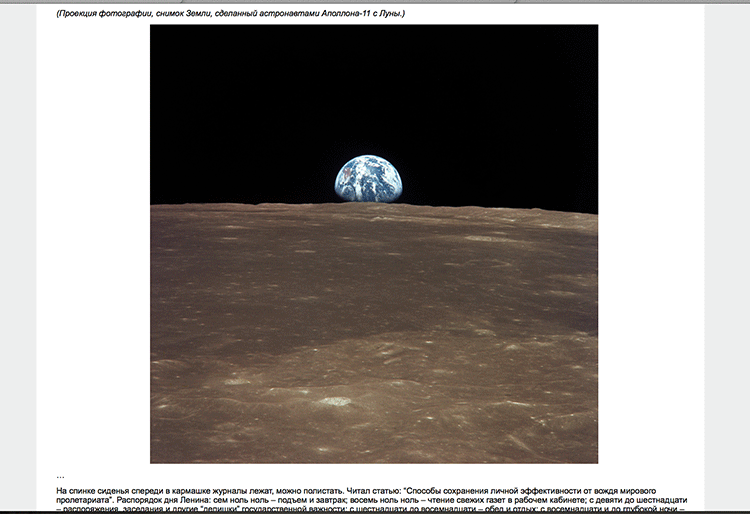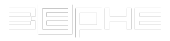В конце 2014 года Беларусский свободный театр представил минской публике спектакль “Земля № 2” (реж. Владимир Щербань, исп. Андрей Уразов, Юлия Шевчук, Павел Городницкий). Это триптих из текстов беларусского драматурга Максима Досько: “Титан”, “И сострадание вмиг открылось ей…” и “Лондон”.
Максим Досько впервые выступил как драматург в начале прошлого года в рамках Международного драматургического конкурса “Свободный театр”, на котором получил гран-при (помимо первой премии в номинации “Эксперимент”), после чего тут же стал попадать в шорт-листы ведущих российских конкурсов драматургии. Несмотря на многочисленные читки текстов Досько в России, Украине и Беларуси (кроме Беларусского свободного театра текст “Лондон” был прочитан в Брестском академическом театре), “Земля № 2” — первый полноценный спектакль по текстам автора.
Максим Досько пришел в драматургию из фотографии (его фотопроекты неоднократно были представлены в рамках коллективных выставок, а также на персональной выставке). Особое влияние на его драматургическое становление — что заметно в интонациях и используемых приемах — оказало творчество Павла Пряжко. Однако Досько не просто подхватил и продолжил некоторые векторы, заданные Пряжко. Владея другими медиа и фактически ничего не зная о законах драматургии, Максим Досько предложил иной язык рассказа о повседневности. Этой темой он занимается в фотографии, однако для нее, по словам Максима, уже недостаточно только визуальной формы. (Если говорить о влиянии Пряжко, то, возможно, как раз общее поле исследования стало для Максима точкой притяжения именно к этому автору). И если по отношению к творчеству Пряжко еще можно было с оговоркой использовать определение “пьеса” (за исключением нескольких работ, например, “Солдат”, “Три дня в аду”, “Я свободен”), то Досько создает именно мультимедийные тексты, что совпадает с процессами, происходящими сегодня в глобальном поле современного искусства (то есть с междисциплинарностью).
Используя различные медиа — слово, изображение, звук, — он размывает границы драматургической формы. Вербальность теряет свое ведущее значение и становится всего лишь одним из медиа, доминирующим по объему, но перестающим быть основой нарратива.
(Интересно отметить, что Досько, по его словам, обратился к слову из-за ограниченности возможностей изображения. Однако, кажется, он продолжил использовать фотографию в драматургических текстах, добавив еще и звук, потому что обнаружил лимит и вербальной формы).
Об этой тенденции немецкий исследователь Ханс-Тисс Леманн пишет в “Постдраматическом театре”, анализируя развитие театральной формы, когда пьеса/вербальный текст перестает быть основой спектакля, часто подчиняясь другим сценическим средствам. В данном случае произошло то же самое — только внутри самой драматургической формы: история рассказывается не через слово, а во взаимодействии с другими формами. В таком тексте изображение или звук не дополняют, иллюстрируют или поддерживают как фон, а сами по себе являются драматургической единицей, которую режиссеру, возможно, придется решать и, возможно, другими сценическими средствами. Хотя в данном случае, когда автор настолько самодостаточен (как и Павел Пряжко), режиссерское решение заключается скорее в аккуратном переносе этого текста в объемное измерение сцены (хотя при желании режиссер может интерпретировать текст через другие формы).
Это не значит, что режиссер в таком театре является всего лишь медиатором/координатором между автором и публикой. Хороший пример этому — спектакль “Земля № 2”, где режиссерские акценты, визуально-композиционное решение, а также индивидуальности артистов создают самостоятельное произведение, объединенное образом земля номер два, взятым из “Титана”. И в данном случае это не просто формальный знак или удачное название спектакля, а режиссерское решение. Владимир Щербань выделил и сделал акцент на одной из ведущих тем в творчестве Максима — апокалипсическом ощущении повседневности.
В текстах Павла Пряжко, за исключением “Три дня в аду”, повседневность рассматривается в экзистенциальном ключе: автор как будто настаивает на том, что в ее серости заключается определенная ритуальность, с которой нужно не смириться, а принять как факт. Жизнь однообразна, и это не плохо или хорошо; в принятии этой рутинности, этих бесконечных повторов и зависаний и заключается определенная взрослость. Тем не менее, отправной точкой для Максима Досько стал как раз текст “Три дня в аду”, где тема повседневности у Пряжко ярко локализовалась и приобрела фатальный оттенок (кажется, он никогда так близко не подходил к социально-политическому измерению здесь и теперь). Сначала Максим объединил этот текст Пряжко со своими фотографиями (проект “Dead Run”,), а потом стал писать сам. Возможно, поэтому не покидает ощущение, что написанное им как бы продолжает происходить в сделанном видимым Пряжко пространстве того “ада”, в котором серость повседневности не экзистенциальна, а аномальна. Досько отказывается от временных ограничений и пишет историю одного затянувшегося апокалипсиса, который происходит не в каком-то определенном месте (хотя, именно колорит этого места и позволяет сделать апокалипсис видимым), а на всей планете.
Это настроение, как кажется, и выводит на первый план Владимир Щербань, объединяя тексты названием “Земля № 2”.
Так некоторые астрономы называют спутник Сатурна Титан, предполагая, что через шесть миллиардов лет там станет возможна цивилизация, но пока там обитают только простейшие формы жизни.
ТИТАН
С текста “Титан” и начинается спектакль. Это монолог Дмитрия Лебедева, астронома-любителя и внештатного сотрудника Академии наук Беларуси (исполняет Андрей Уразов). Он начинает говорить, и кажется, что сейчас перед нами развернется история из какого-нибудь научно-фантастического романа — космос, Титан, предчувствие конца, которое заставляет героя вспомнить и рассказать нам что-то очень важное… Но уже в самом начале речь героя — достаточно хаотичная, местами жаргонная — моментально переводит действие из плоскости научно-фантастической в “новодрамовскую”, в которой узнаются беларусские реалии. “Я на самом деле два высших образования имею, сказать грамотно могу и написать, там, но в жизни все время обычно говорил, то есть когда среди своих и в семье… я говорил как обычно, тогда еще в Беларуси сильно на трасянке говорили, диалекте то есть, это уже сейчас не говорят. На районе меня, короче, всегда за своего принимали”, — поясняет свое косноязычие герой.
Важным же событием, которым ему сейчас необходимо поделиться и которое, возможно, является ключевым в его жизни, оказывается банальная история алкогольного отравления в молодости. Детали, то, как герой описывает свое восприятие происходящего, трансформацию сознания в процессе опьянения, — всё это делает его еще более земным. Заканчивает Лебедев свое повествование в тот момент, когда покидает больницу, где оказался в результате отравления. Фотография — Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска — финальная точка монолога.
Максиму Досько (за счет мультимедиа, определенной языковой игры) удается передать изменения сознания героя, то, как он воспринимает реальность и свои ощущения в ней — как будто между явью и сном. Владимир Щербань в спектакле находит прием, который подчеркивает эту игру сознания: Андрей Уразов говорит монолог в видеокамеру “Скайпа”, экран которого проецируется на стену. То есть исполнитель фактически ни разу не выходит на прямой контакт со зрителем: он полностью изолирован от внешнего мира, и окно “Скайпа” — единственное связующее звено. Такое существование создает интересный эффект. С одной стороны герой отделен от публики, иногда заставляя слушателей сомневаться в своей “нормальности” (не покидает ощущение клиники: вышел ли он тогда?). С другой стороны то, о чем он рассказывает, настолько “нормально” в нашем контексте, что зритель узнает в герое себя (если не напрямую, то через родственников или друзей).
Зрительный зал становится как бы частью этого замкнутого пространства, и только герой имеет возможность кому-то рассказать о том, что происходит, поделиться тем, что кажется ему важным, возможно, потому что — “не нормальное”.
Несмотря на то, что Лебедев — человек с двумя высшими образованиями, история могла бы показаться типично “новодрамовской”, если бы — не Титан. Из небольшой ремарки героя мы узнаем, что сейчас он находится именно там: “Вообще, кстати, тут на Титане красиво…” Реплика брошена невзначай, также периодически возникает звук — ветер на Титане, — что создает и незаметно усиливает ощущение надвигающейся катастрофы. Герой чувствует приближение конца. Или конец уже наступил? Может, Земля уже была уничтожена? А может, ее никогда и не было, а та самая Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска находится где-то на Титане? Как будто начинаешь догадываться, но тут же забываешь об этом: настолько реально все, что сейчас слышишь. Кроме того, прием проекции работает на то, что внимание больше приковывается к экрану, чем к тому, что происходит вживую.
Находясь в том пространстве, где всё это происходит, предпочитаешь смотреть кино, как будто выдуманное, фантастическое, хотя на самом деле являешься его частью.
“И СОСТРАДАНИЕ ВМИГ ОТКРЫЛОСЬ ЕЙ…”
Следующий текст “И сострадание вмиг открылось ей…” (исполняет Юлия Шевчук) имеет более простую конструкцию. Он как бы нивелирует режиссерские акценты, которые прозвучали в “Титане”, обманывая на этот раз классическими новодрамовскими языком и формой. В центре — история Леши: “тридцать два года, ничем особым не выделяется, обычный не совсем коренной житель Минска (родители приезжие), работает кладовщиком”. Всё началось однажды в троллейбусе, когда он, успокаивая молодых подвыпивших парней, избил их до полусмерти: “просто бил как попало с обеих рук; несколько ударов ногой, пяткой; после бокового удара в висок лысый вырубился, упал”. Потом был случай в троллейбусе, когда он обругал женщину, сделавшую ему замечание. Нахамил на работе, до смерти избил одного из сотрудников, в результате Лешу уволили. И всё потому, что он сам не понимает причины, “он стал злым, в нем что-то поменялось (появилось)”. История на этом не заканчивается — бьет Леша, бьют его, он напивается, напивается еще больше и в финале, уже у себя дома, услышав песню про кота, плачет.
Рассказывая эту историю, автор, а следом за ним и Юлия Шевчук, не осуждают Лешу. Может даже показаться, что они обращаются к публике как бы с просьбой пожалеть его: он ведь вроде был хороший, только что-то в нем “поменялось (появилось)”. Но материнская интонация — всего лишь прием, подчеркивающий тот апокалипсис, который ежедневно происходит с нами рядом. Агрессия, озлобленность, нетерпимость, насилие стали привычной частью нашего повседневного опыта или ленты новостей. В финале ощущение обыденности происходящего проявляется еще острее: услышав по радио душераздирающую песню про кота, герой не постит ее в “Фейсбуке” (хотя мог бы), а — плачет. Не от жалости к животному, чью историю услышал сейчас в песне, и не от раскаяния. “…ему жалко себя. Плачет, ему жалко всех. Всех! Наверное Леша все понял, наверное он будет другим”, — заканчивает Юлия Шевчук и предлагает нам тоже внимательно послушать песню про кота в исполнении Светланы Копыловой.
Такой позитивистский финал (в лучших традициях советского/беларусского репертуарного театра) как будто должен успокоить нас: всё ведь будет хорошо, и плохой Леша обязательно исправится. Но для автора и режиссера это лишь прием, который подчеркивает театральность (искусственность) финальной сцены — Леша плачет. Понятно, что злоба героя является результатом глубокого чувства неудовлетворения, типичного состояния среднестатистического человека на постсоветском пространстве, которое проявляется либо в форме подавленности, либо во вспышках агрессии. И можно, конечно, себя пожалеть, списав всё на “контекст”, но это будет так же смешно и театрально, как и история с Лешей. Скорее, нужно обнаруживать причины этой злобы, которые находятся не столько снаружи, сколько внутри. Да, в силу исторических и политических причин, в силу отсутствия свободного выбора в Беларуси (и на постсоветском пространстве в целом) разрыв между полноценной жизнью и ее симулякром намного глубже и болезненнее, чем в некоторых других странах. Но подобные истории — о вдруг произошедших выплесках агрессии, в том числе об убийстве своих близких, например, — происходят во всем мире.
Проблема агрессии, связанной с внутренним неудовлетворением своим реальным бытием, актуальна для современного человека в принципе.
У нас, возможно, легче обнаружить внешнего врага, но будет ошибочно находить причины только вовне. Ключевым в этом монологе кажется обращение к человеку и его ответственности за себя и свой (не)выбор. Ответов нет, только вопросы, которые рождаются от ощущения безвоздушности пространства на всей планете.
ЛОНДОН
Текст “Лондон” (исполняет Павел Городницкий) постсоветскому человеку может показаться особенно родным. Это история беларусского сантехника Гены, который выигрывает международный конкурс соломоплетения и впервые попадает за границу — в Лондон. Сначала герой рассказывает о своей биографии, профессии, условиях, в которых живет и работает, таким образом задавая один полюс того, “как может быть”. Интересно, что по той смиренности, подавленности, которая присутствует в интонации Гены (естественно, для него это “норма”), кажется, что перед нами уже старик, проживший длинную и тяжелую жизнь. А Гене всего тридцать четыре года, но он уже был неудачно женат, есть сын, Гена сидел (после развода ушел в запой и как-то “с дружками ночью разобрали забор на мехдворе …местного СПК… и сперли (украли) триста литров солярки”), теперь живет с родителями в Ракове, а работает в Озерце. В общем, “в жизни Гены ничего такого особенного не было”. О перспективах, о каком-то другом будущем он не думает (категория будущего отсутствует в его системе координат), и в принципе Гена счастлив. У него есть страсть — соломоплетение, в котором он и находит определенное экзистенциальное успокоение.
На конкурс Гена попал случайно: увидел объявление и послал фотографии своих работ. И вдруг — его приглашают на церемонию награждения в Лондон. Гена сначала отказывается ехать, потом соглашается (“убедили мать с отцом, что это же раз в жизни такое можа быць, ты што, ляци”), впервые садится в самолет, взлетает и видит чужую землю. И в этот момент Гена начинает думать о Родине, как никогда остро чувствуя связь с родной землей. Потом в Лондоне именно эти патриотические убеждения станут для него спасательным кругом. Увидев другой полюс того, “как может быть”, где-то глубоко внутри переживая крах определенной, однажды и кем-то навсегда заданной картины мира, Гена чувствует себя здесь абсолютно чужим и лишним: “Ничего этого современного, европейского не надо ему оказывается, он любит Раков, Беларусь, сына своего, ЖКХ даже любит, свою работу. Вот как…Гена спал крепко, ему снилась Родина”. После церемонии награждения, где его объявляют победителем, он отчуждается от этого другого мира еще больше. Последний день перед отлетом он не выходит из отеля и скорее хочет отсюда уехать. Слушать и наблюдать всё это одновременно смешно и страшно. Смешно, потому что взрослый Гена видит и описывает чужой мир как будто глазами ребенка, искренне удивляясь, переживая и пугаясь неизвестного. Страшно, потому что узнаешь в Гене себя: такого же маленького жителя одного замкнутого пространства с остановившимся временем.
В “Лондоне” снова возникает ощущение пространства сна и яви, кино и реальной жизни. История героя описывается внешне, о том, что он переживает на самом деле, нам остается только догадываться. В финале, когда, приземлившись на родной земле, Гена от переизбытка патриотических чувств плачет (“У Гены начинают дрожать губы, мокнут глаза, он шмыгает потихоньку носом. … Гена плачет. … Плачет все сильнее, не может сдержаться. … Взрослый мужик, нефиг тут реветь, хватит уже, успокойся. … Плачет, слезы текут, из носа сочится, весь размок. Родина. Родина!”), возникает ощущение окончательного отчуждения героя от реальности. Этот момент приземления неоднозначно звучит и в спектакле: герой Павла Городницкого как будто убеждает себя и зрителя в своем тотальном счастье, в том, что “ничего другого ему не надо”, оставляя публику только догадываться об истинных причинах слез. Финал “Лондона” также напоминает детский утренник. Звучит песня Александра Солодухи, герой поет (“он оказывается еще и очень неплохо поет”), публика подпевает, потому что “если вы беларус, то, скорее всего, знаете эту песню”.
Автор и режиссер в финале замыкают героя в привычное убаюкивающее безопасное пространство (“Гена живет точно так же, как и до поездки в Лондон”), из которого он никогда не выйдет, потому что не хочет сам. Но для зрителя благодаря карнавализации финала смысловое поле размыкается. Нам как будто предлагают выйти из своего соломенного домика в большой мир, не прятаться, не бежать от него, убеждая себя в глубоких патриотических чувствах, но самим по-взрослому дать этому миру оценку и определить свое место в нем.
Максим Досько ставит под вопрос, перечеркивает (в посвящении) слово патриотизм и выводит — космополитизм, потому что то, что навязывают под понятием патриотизма, кажется ему манипуляцией, а не тем, что испытываешь к родному месту на самом деле. В разных текстах автора постоянно звучит отсылка к человечеству вообще, не в абстрактном смысле, а как понимание себя как части чего-то бесконечно огромного, космического. Эту же тему он развивает в своем следующем тексте “Секонд хэнд”, где размыкание локального, ощущение какого-то глобального конца становится видимым еще больше.
Потому что банален не только наш апокалипсис. В реальном измерении (не в кино) апокалипсис банален везде.
Мир болен, по-разному и в разной степени. А те события, которые происходят в последнее время, в принципе ставят под сомнение веру в какой-либо прогресс. Остается только надеяться, что это происходит не на Земле № 1, потому что так там быть не может. Это на Титане, где обитают простейшие организмы, которым еще предстоит развиваться.
Но эта надежда — не высокомерное осуждение или способ принять и полюбить человека и мир несовершенных. В спектакле “Земля № 2” нет резких суждений и оценок, и это отличает его от других спектаклей Беларусского свободного театра о беларусской повседневности. Похожая интонация звучала в их постановке “Родные и близкие” по Константину Стешику, в которой о смерти и насилии рассказывали с определенной дистанции. Максим Досько и Владимир Щербань вместе с актерами пытаются обнаружить правду как раз в этом пространстве “между”, одновременно отчуждаясь от реальности и чувствуя свою непосредственную причастность к ней. Это и позволяет создать ощущение спектакля — космического корабля, который отправился в неизвестное пространство в поисках человека земного.
Таня Артимович
Скриншоты сделаны с сайта Максима Досько
Интервью с Максимом Досько читайте ТУТ
Фотографии со спектакля “Земля № 2” можно посмотреть ТУТ.
Мнения авторов не всегда совпадают с позицией редакции. Если вы заметили ошибки, пожалуйста, пишите нам.